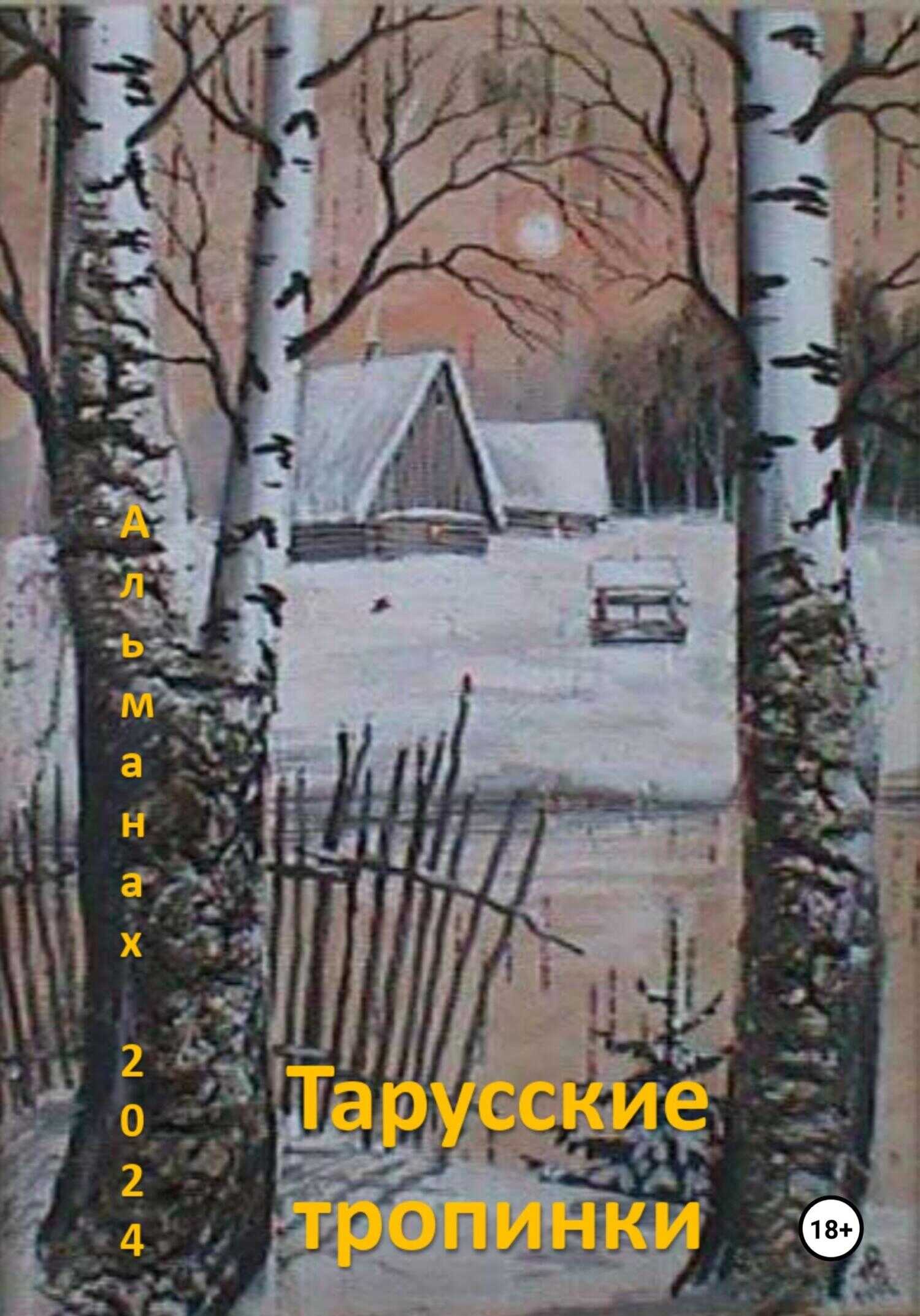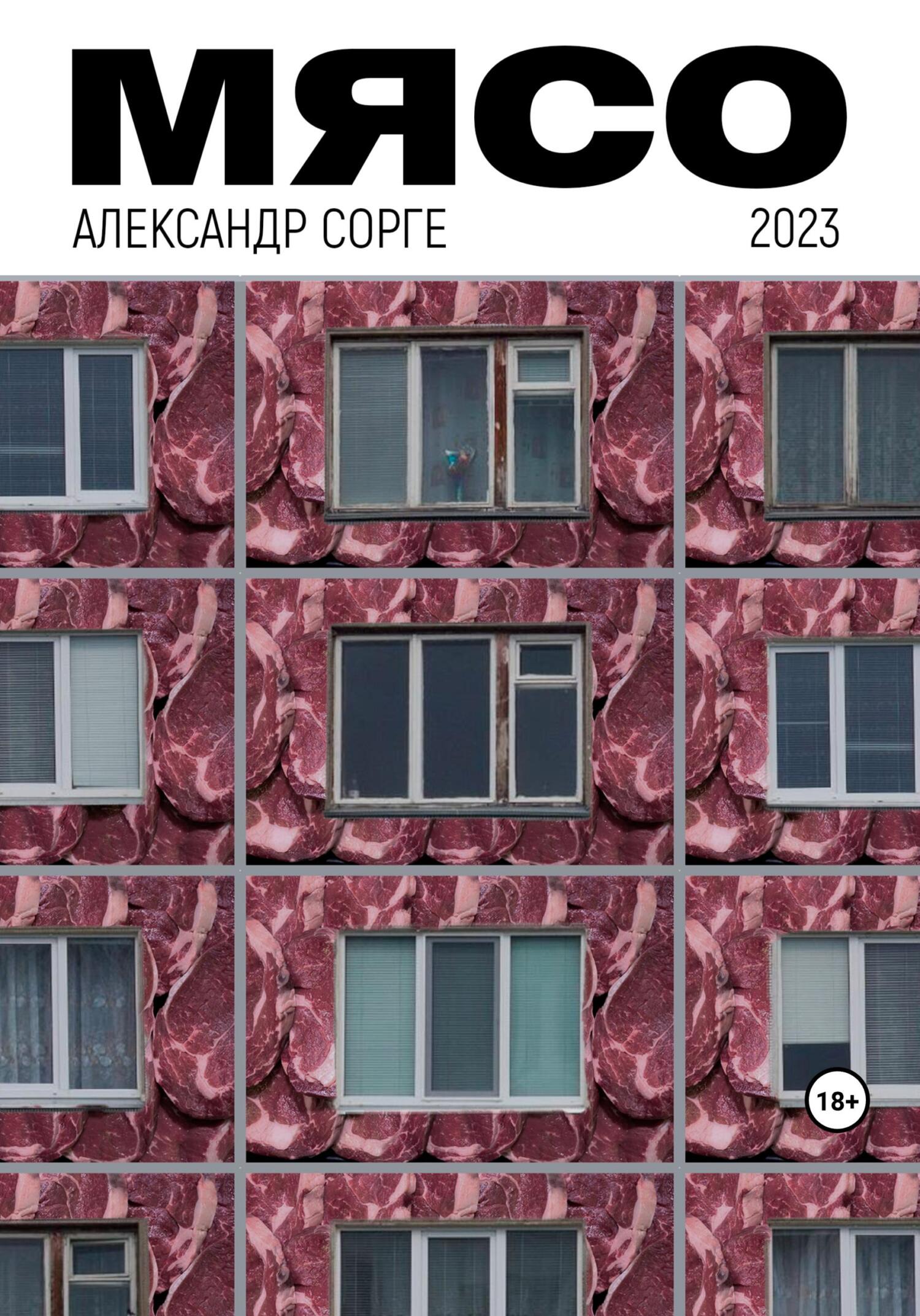перекати-поле – я села в поезд.
Посреди ночи возникла голова какого-то дядьки.
– Девушка! Девушка, золотая! Вы бы матрас постелили!
– Постелила бы, – ответила я.
Под головой у меня лежал рюкзак, в ногах – сложенное пальто.
– Девушка, – через пару минут голова снова появилась из-за ярко-синей полки. Как пародия на солнце и океан. – У вас пилочки не будет? Девушка, золотая!
– А вам зачем?
Дядька залез в карман рубашки и достал какую-то металлоконструкцию. Она оказалась «нокией» без заднего корпуса.
– Да симку вынуть. Поковырять надо.
Для наглядности он от души ковырнул пальцем воздух. Я достала пальто и накрылась им с головой.
*
Веник встретил меня, как всегда, колючей бородой и богатырским объятием.
– Как сам?
– Нормас.
– Ленка?
– Ну.
– Все так же?
– Ага.
– Дебил.
Он не изменился: все так же любит жену и гуляет направо и налево. Но меня он никогда не клеил, и за это я его люблю. И, пожалуй, еще за то, что жена в неведении.
Я остановилась не у них, а в хостеле: дважды в неделю стою на ресепшене и живу бесплатно.
На фестивале я нашла вегетарианскую палатку. Люди подходят, нюхают, морщатся и уходят.
– А с тофу есть бутерброды? – спрашиваю парня за стойкой.
– Кончились.
– Плохо, – говорю и зависаю: как-то невежливо прозвучало.
– Печально, – подсказывает парень.
Мы смеемся.
Он продает мне соевый бургер и долго бегает за сдачей.
– Я с Москвы, – говорю и показываю кавычки.
– Я сам «с Москвы», – он тоже показывает кавычки, – в Пэтэзэ только полгода как.
В десять вечера я иду вдоль кордонов. Он меня догоняет.
– Приходите к нам в «Траву»!
Пока загружались в автобус, пошел дождь.
– Меня тут клеил один малолетка, – говорю, – хотя и знал, что у меня муж есть. Люди дебилы.
– Да, есть такое, – соглашается Юра, – дебилы.
Сам он когда-то был в браке, а теперь от брака осталась не замененная вовремя лампочка и печаль в выпуклых Юриных глазах.
– Я для себя понял, – говорит он, – если мужчина и женщина расходятся, то это не хорошо и не плохо, это нормально.
– Тебе лет-то сколько? – смеюсь. Мужчина и женщина, тоже мне.
– Не помню. Двадцать девять, что ли.
Слово за слово, шутка за шутку мы идем в кафе, только не в «Траву» – то уже закрылось, а куда-то, где до одиннадцати. Договорили не обо всем.
Кафе утыкано ретрофотками, букинистикой и зелеными салфетками с надписью «Хочешь познакомиться – положи себе на стол». Бармен здоровается с Юрой за руку.
– Видишь девушку на фотографии? – говорит Юра. – Она похожа на мою бывшую супругу. Я как увидел, глаза протер. А потом смотрю – у нее грудь голая!
Я отодвигаю пленочный фотик, лежащий перед фотографией в стратегическом месте.
– И правда. У моей подруги похожая.
– Что похожая?!
– Фотокамера.
Я беру двойной черный кофе и прошу Юру не обращать на меня внимания: он что-то говорил про «мужской желудок», а в меня ничего не лезет. От переизбытка впечатлений я почти парю над скамейкой.
– Я раньше много автостопом ездил, – рассказывает Юра. – Всю Россию объездил. Выходишь, бывает, один на трассу, да в зиму, да в одно лицо. Возвращаешься во-от с такой бородой – и сразу как процессор поменяли.
Слова «в зиму» я так и представляю: куда-то в черную и ледяную дыру. Но борода с Юрой не вяжется: слишком он тонкий какой-то, с красными пятнами на бледной шее.
Я рассказываю ему про отца. В какой-то момент задерживаю дыхание: чтоб не заплакать.
– Знаешь, – говорит Юра, – я давно так с незнакомым человеком не общался. Это круто.
Подходит бармен и хлопает себя по запястью.
– Ага, – говорит Юра и, пока я копалась в мокром рюкзаке, расплачивается за двоих.
– Ты дурной? – говорю. – Ладно, за мной не заржавеет.
– Не знаю, что у тебя там не заржавеет, – усмехается Юра, и бармен за компанию тоже фыркает.
На улице темно и мокро.
– Так, – говорит Юра, – я тебя проводить сейчас не могу, поэтому есть два варианта: либо я вызываю тебе такси, либо ты говоришь, у тебя нет Интернета, – что ж, милости прошу ко мне, у меня есть.
Он так и говорит – «милости прошу».
Мимо нас пролетает воронок, все на мгновение освещается.
– Знаешь, – говорю, – есть еще третий вариант. Я пойду пешком.
– Эй, не надо. Давай такси вызову. Здесь не Москва.
В ушах трещит от дождя и машин. Впереди маячит вокзал. Юра достает телефон:
– Я всегда так делаю.
– Рада, что ты всегда так делаешь, – говорю. – А я так не делаю никогда.
– Ты чего?
На перекрестке смотрю ему в глаза.
– Вот говоришь, всю страну объездил? А ума не прибавилось.
Разворачиваюсь и иду прочь. Звоню Лёвке, он сонный, трубка скрипит.
– Я соскучилась, – говорю.
– Что-то случилось?
Лёвка всегда зрит в корень.
– Случилось то, что люди дебилы. Давно случилось. Еще до нас с тобой.
*
Веник предается страстям и говорит об этом.
– Ты думаешь, легко вожделеть замначальницу кладового цеха?
Перед нами плещется Онежское озеро, синющее и какое-то строгое: то ли от плитки, то ли просто оттого, что это север и здесь иначе никогда не бывало.
– Так не вожделей, – говорю.
– Так не могу.
Похоже, судьба все-таки наказала его за все, что раньше сходило с рук. Раньше гулял – и хоть бы что, а теперь чувства подхватил, как простудился.
Веник смотрит на меня безумными карими глазами.
– До подсобки дошло. Смотрю на нее, без комбеза, мозг орет: «Бля-я-я!», – а все остальное: «Похер, давай!»
– Дебил, – говорю, – ты, Веник.
*
Я отправилась искать кафе «Трава», в котором работает Юра. Зачем, не знаю. Видимо, стало совестно: переборщила я тогда.
Нашла его заросшего и за барной стойкой. В штанах с подтяжками.
– Ого, – говорит он. – Вот это да.
И смотрит испытующе. В этом есть что-то жутковатое – когда человек с глазами, к которым липнет эпитет «беззащитные», смотрит вдруг именно так.
– Я попрощаться пришла, – говорю.
– Тогда иди туда, – он указывает в дальний угол.
Там воняет индийскими палочками и лежат журналы про йогу.
В Москву я собираюсь через две недели, но он не уточнял, поэтому лжи тут и не бывало.
Я влезаю на диван, через десять минут он садится рядом. По стене бегают зеленые слоники. Я пытаюсь понять, нарочно это или дизайнеры не знали такого кино.
– Залипаешь? – спрашивает Юра. – Я как отсюда в восемь выйду – сам спать завалюсь. Здесь не Москва. Здесь ритм не тот.
Молчит, а потом добавляет:
– Хотя с тобой бы, наверное, не уснул.
– В смысле?!
– В прямом.
Я пробыла у них до закрытия.
*
На другой день мы с Веником пьем портвейн.
– Она уходит в декрет, – говорит он. – Плакал прямо при ней.
– А я, – говорю, – теперь, кажется, его люблю. Что делать?
Веник чешет родничок на макушке.
– Домой вали, Марь. Только так. Только домой.
– А что это? Ты можешь мне объяснить? Что это было?
Он молчит минуты две, пинает краем подошвы вентшахту. Мы сидим на крыше.
– Когда все так ловко налажено и счастьем наполнены дни, в душе образуется скважина: душа твоя просит херни. Моя душа ее и так просит: я долбоеб. Отсюда и замначальница. А ты – ты только что вышла из ада.
– Ты про отца?
– Ага. И мозг запросил еще. Не привык жить без этого.
Он с силой бьет бутылку донышком о бетон. На ней образуется белая полоса.
– Все, что ты сейчас можешь, – это уехать. К Лёвке. Забыть. Не было этого, не было никогда и не будет. Бери билет и езжай прям щас. Вали домой, Марь.
3
На вокзале народу почти не осталось. Остался шпиль и пустая привокзальная площадь.
Здесь ритм и правда не тот.
Наталья Волкова
Журавлиный король
В той компании юных чудиков с ленточками, фенечками, шнурочками и заморочками он выглядел инородно. Не белой вороной, нет, – редким черным журавлем.
Он зачем-то наведывался туда, где мальчики и девочки, уверенные, что мир лишен любви и только они обладают его тайнами, пили из неказистых рюмок, плакали, смеялись и произносили трагические монологи. Музыка неслась из засыпанного табачным пеплом магнитофона, удивляя вновь пришедших горловым пением или звуками китайских колокольчиков.